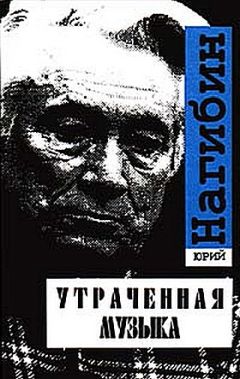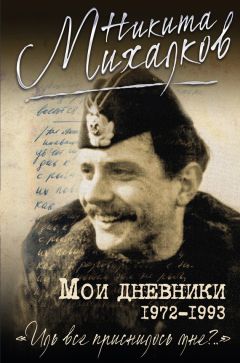Юрий Нагибин
Вместо предисловия
[к сборнику «Время жить»]
Когда выходит очередная книга беллетристики, нет никакой нужды предварять ее автобиографическими сведениями. Какое дело читателю до личности и обстоятельств жизни автора, если ему предлагают вымышленный или воссозданный творческим воображением мир? Иначе обстоит с книгами, подобными этому сборнику. Здесь читатель должен располагать хотя бы минимумом сведений об авторе, знать, что ли, «подоплеку», иначе ему непонятно будет пристрастие к определенным проблемам и безучастие к другим, неясны причины заинтересованности в тех или иных явлениях жизни и культуры и «умалчивания» других, не менее значительных. И вообще, окажется слишком много тумана. Вот почему я и решил коротко рассказать о себе.
Я родился 3 апреля 1920 года в Москве, близ Чистых прудов, в семье служащего. К началу тридцатых мои родители расстались, и мать вышла замуж за писателя Я. С. Рыкачева.
Мой отец был несчастлив. Почти всем его последующим существованием управляла чужая воля, она определяла ему место пребывания, род занятий, распорядок дня. Очень долго единственной памяткой об отце был Георгиевский крестик, полученный им в мировую войну. Прожив свою невеселую одинокую жизнь, он умер в 1952 году в маленьком городке Кохме, где центральная площадь с розовой каланчой носит, невесть с чего, имя основателя ненужного языка эсперанто, доктора Замменгофа. А в середине пятидесятых выяснилось, что отец вовсе не заслуживал такой судьбы.
Отец в моих рассказах лицо полувымышленное, намечтанное, притом, что живой человек был куда лучше. Но я еще напишу о нем.
Я обязан матери не только прямо и твердо унаследованными чертами характера, но и основополагающими качествами своей человеческой и творческой личности, вложенными в меня еще в раннем детстве и укрепленными всем последующим воспитанием. Эти качества: умение ощущать драгоценность каждой минуты жизни, любовь к людям, природе и животным.
В литературном научении я всем обязан отчиму, и если плохо воспользовался его уроками, то это целиком моя вина. Он приучил меня читать только хорошие книги. В конце двадцатых — начале тридцатых годов прошло странное поветрие — в школах появились затрепанные, с подклеенными страницами романы Чарской и Вербицкой, которыми зачитывались не только девчонки, но и представители сильного пола, охладев на время к Сюркуфу и Нику Картеру. Бодлер говорил: «Бог избавляет своих любимцев от бесполезного чтения». Меня избавил от бесполезного и дурного чтения отчим. Жюль Верн, Вальтер Скотт, Диккенс, Дюма, русские классики и, конечно, «Дон Кихот», «Робинзон Крузо», «Гулливер» — литература моего детства. Позже к ним присоединились Шекспир, Шиллер, Гете, Бальзак, Стендаль, Флобер, Мопассан. А затем отчим открыл мне Марселя Пруста, Бунина, Андрея Платонова. В ту пору по разным причинам эти авторы, ставшие для меня наряду с Достоевским и Лесковым первыми среди равных, были мало доступны. Отчим научил меня думать о прочитанном. Я с раннего детства привык жить в кругу литературных интересов, но при этом вовсе не напоминал того писательского сынка, который спрашивал родителей: «А бывают на свете не писатели?»
Мы жили в хорошей, коренной части Москвы, в окружении прекрасных старинных церквей, впоследствии беспощадно уничтоженных. Я гордился своим домом. Прежде всего, он выходил в три переулка: Армянский, Сверчков и Телеграфный; я любил озадачивать людей своим тройным адресом. Кроме того, он обладал двумя дворами. И наконец, в его подвалах помещался крупнейший винный склад Москвы. «Тырить» бутылки было таким же обязательным, освященным традицией промыслом для всех поколений мальчиков нашего дома, каким в иных селах являлось извозное дело или иконопись. Основное население дома составляли «печатники», как тогда почему-то называли всех без разбору типографских работников. Но в малом количестве тут сохранились и впавшие в ничтожество буржуи: «бывшие люди» и нэпманы. Дому обязан я рано проснувшимся социальным чувством, ибо, к великому моему горю, сверстники долго преследовали меня кличкой «буржуй». Мы жили более чем скромно, но даже сытенький, нарядно одетый сын завмага Женька Мельников кричал мне смертельно оскорбительное слово своим вечно набитым ветчиной и пряниками ртом. Все же со мной дружили, ибо вечная потребность самооправдания вынуждала меня к особой лихости во всех дворовых предприятиях. К тому времени, когда я понял, что слово «буржуй» отмечает вовсе не мнимую нашу зажиточность, а мое непролетарское происхождение, жестокая кличка отпала.
Не меньше дома я любил нашу большую коммунальную квартиру. В ней жило несколько семей, в том числе строгая, «идейная» семья моего друга Кольки Полякова и веселая, песенно-разгульная семья Рубцовых, где рослые красавцы Фомочка и Мотя с пулеметной частотой производили на свет красавиц дочерей.
Здесь жила также сестра моей няньки[1] Веры Ивановны (Верони) добрая, милая Катя, то и дело с веселым отчаянием хоронившая своих мужей и дававшая пристанище многочисленной деревенской родне, что наезжала в Москву по разным нуждам. Катин племянник — маленький, пучеглазый, загадочный Янька — стращал меня рассказами про упырей, водяных, леших и ведьм, которых видимо-невидимо в его родной деревне Конуры на Рязанщине. Ведьминское очарование Конур было настолько велико, что мы раз и навсегда изменили подмосковным дачам ради деревни. Правда, жили мы не в Конурах, а по соседству, в сельце Внуково. Оттуда родом была моя нянька, там обитал ее брат Яков в избенке с земляным полом, стоящей на краю дивного яблоневого сада. Избенка эта постоянно горела. Сгорела она и в дождливое лето нашего первого приезда, пылая среди темной рязанской ночи мощно и ярко, как Помпея на картине Брюллова.
В соседней деревне Акулово жила старшая сестра Верони — иконописно красивая Саша с мужем и детьми. Павел Николав, так уважительно звали Сашиного мужа, был самый справный хозяин во всей округе. Такими же работящими, ладными и ухватистыми были его дети. У Павла Николава ходили в стаде две коровы, а в стойле стояли две лошади: кобыла и мерин. В двадцать девятом году на моих глазах его раскулачили. Эта ночь, когда ревела скотина, плакали дети, молчали Павел Николав и Саша, навсегда осталась в моей памяти. После выхода фильма «Председатель» литературные стражи, почитающие своим призванием не подпускать чужаков к сельской калитке, спрашивали меня иронично: давно ли я так заинтересовался деревней? Давно, с той самой ночи…
И мать, и отчим надеялись, что из меня выйдет настоящий человек века: инженер или ученый в точных науках, и усиленно пичкали меня книгами по химии, физике, популярными биографиями великих ученых. Для их и собственного успокоения я завел пробирки, колбы, какие-то химикалии, но вся моя научная деятельность сводилась к тому, что время от времени я варил гуталин ужасного качества. Впрочем, это позже…
![Юрий Нагибин - Вместо предисловия [к сборнику «Время жить»]](https://cdn.my-library.info/books/41347/41347.jpg)